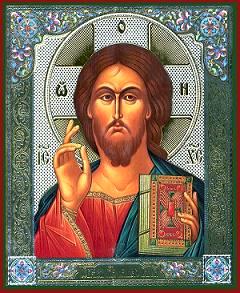
«Церковь — авторитет», сказал
Гизо в одном из замечательнейших своих сочинений, а один из его критиков
приводя его слова, подтверждает их; при этом ни тот, ни другой не подозревают,
сколько в них неправды и богохульства. Бедный римлянин! Бедный протестант! Нет:
Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет
есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и в то же время
жизнь христианина, внутренняя жизнь его: ибо Бог, Христос, Церковь живут, в нем
жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь,
текущая в его жилах; но живут, поскольку он сам живет вселенскою жизнью любви и
единства, т. е. жизнью Церкви.
Дух Божий, глаголющий Священными
Писаниями, поучающий и освещающий Свящ.Преданием Вселенской Церкви, не может
быть постигнут одним разумом. Он доступен только полноте человеческого духа,
под наитием благодати.
Попытка проникнуть в область веры
и в ее тайны, преднося перед собою один светильник разума, есть гордость, в
глазах христианина, не только преступная, но в то же время безумная. Только
свет, с неба сходящий и проникающий всю душу человека, может указать ему путь;
только сила, даруемая Духом Божиим, может возвести его в те неприступные
высоты, где является Божество.
«Только тот может понять пророка,
кто сам пророк», говорит св. Григорий Чудотворец. Только само Божество может
уразуметь Бога и бесконечность Его премудрости. Только тот, кто в себе носит
живого Христа, может приблизиться к Его престолу, не уничтожившись перед тою
славою, перед которою самые чистые силы духовные повергаются в радостном
трепете. Только Церкви, святой и бессмертной, живому ковчегу Духа Божьего,
носящему в себе Христа, своего Спасителя и Владыку, только ей одной, связанной
с Ним внутренним и тесным единением, которого ни мысль человеческая не в силах
постигнуть, ни слово человеческое не в силах выразить, дано право и дана власть
созерцать небесное величие и проникать в его тайны. Я говорю о Церкви в
еецелости, о Церкви, по отношению к которой Церковь земная составляет
нераздельную от нее часть: ибо что мы называем Церковью видимою и Церковью
невидимою образует не две Церкви, а одну под двумя различными видами.
Церковь в её полноте, как
духовный организм, не есть ни собирательное существо, ни существо отвлеченное:
это есть Дух Божий, который знает сам себя и не может не знать. Церковь, в этом
смысле понятая, т. е. вся Церковь или Церковь в ее целости, начертала Священные
Писания; она же дает им жизнь в Предании; иными словами и говоря точнее:
Писание и Предание, эти два проявляя одного и того же Духа, составляют одно
проявление: ибо Писание не иное что, как Предание начертанное, а Предание не
иное что, как живое Писание. Такова тайна этого стройного единства: оно
образуется слиянием чистейшей святости с высочайшим разумом и только через это
слияние, разум приобретает способность уразумевать предметы в той области, где
один разум, отрешенный от святости, был слеп, как сама материя.
Когда победитель смерти,
Спаситель человеков, удалил от людей свое видимое присутствие, Он завещал им не
скорби и слезы, а оставил утешительное обетование, что пребудет с ними до
скончания века. Обещанное исполнилось. На головы учеников, собравшихся в
единодушии молитвы, снизошел Дух Божий и возвратил им присутствие Господа, не
присутствие осязаемое чувствами, но присутствие невидимое, не внешнее, но
внутреннее. Оттоле радость их была совершенная, не смотря на испытания, им
уготованные. И мы также, мы имеем эту совершенную радость, ибо знаем, что
Церковь не ищет Христа, как ищут Его протестанты, но обладает Им, и обладает, и
принимает Его постоянно, внутренним действием любви, не испрашивая себе
внешнего призрака Христа, созданного верованием римлян. Невидимый глава Церкви
не нашел нужным оставлять ей Свой образ, но всю ее одушевил Своею любовью, дабы
она имела в себе самой непременяемую истину.
Кафоличество (Соборность), или
яснее: вселенность познанной истины, и протестантство или точнее: искание
истины — таковы действительно элементы, постоянно сопребывающие в Церкви.
Первый из них принадлежит всей Церкви, ее целости; второй — ее членам. Мы
называем Церковь вселенскою, но самих себя не называем кафоликами (1); в этом
слове заключается указание на такое совершенство, на которое мы далеко не имеем
притязания. Допустив св. апостола иудеев подвергнуться заслуженному порицанию
от апостола языков, Дух Божий дал нам уразуметь ту высокую истину, что ум самый
возвышенный, душа самая озаренная небесным светом, должны преклоняться перед
кафоличеством Церкви, которая есть глагол самого Бога (2).
Каждый из нас постоянно ищет
того, чем Церковь постоянно обладает. Неведущий, он ищет ее уразуметь, грешный,
он ищет приобщиться к святости ее внутренней жизни; всегда, во всем
несовершенный, он стремится к тому совершенству, которое обнаруживается во всех
явлениях Церкви, в ее Писаниях, которые суть Писания Священные, в ее
догматическом Предании, в ее таинствах, в ее молитвах, в тех определениях,
которые возглашает она каждый раз, когда нужно в ее среде опровергнуть ложь,
разрушить сомнение, провозгласить истину, чтобы поддержать колеблющиеся шаги
сынов ее. Каждый из нас от земли, одна Церковь от неба. Впрочем, человек
находит в Церкви не чуждое что-либо себя. Он находить в ней самого себя, но
себя, не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего духовного,
искреннего единения с своими братьями, с своим Спасителем. Он находит в ней
себя в своем совершенстве или точнее: находит в ней то, что есть совершенного в
нем самом — божественное вдохновение, постоянно испаряющееся в грубой нечистоте
каждого отдельного существования. Это очищение совершается непобедимою силою
взаимной любви христиан в Иисусе Христе, ибо эта любовь есть Дух Божий. «Но,
каким образом, — скажут нам, — могло бы единение христиан дать каждому то, чего
не имеет никто в отдельности?» — Песчинка, действительно, не получает нового
бытия от груды, в которую забросил ее случай. Таков человек в протестантстве.
Кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места,
назначенного ему наугольником каменщика. Таков человек в романизме
(католицизме); но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается
неотъемлемою частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую
жизнь.
Таков человек в Церкви, в теле
Христовом, opганическое основание которого есть любовь. Очевидно, что люди
никогда не могут ни понять ее, ни участвовать в ней, не отрекшись от раскола,
который есть ее отрицание, ибо латинянин думает о таком единстве Церкви, при
котором не остается следов свободы христианина, а протестант держится такой
свободы, при которой совершенно исчезает единство Церкви (3). Мы же исповедуем
Церковь единую и свободную. Она пребывает единою, хотя у нее нет официального
представителя её единства, и свободною, хотя свобода не обнаруживается
разъединением ее членов; эта Церковь, позволю себе выразиться словами апостола,
есть соблазн для иудействующих латинян и юродство для эллинствующих
протестантов; для нас же она есть откровение бесконечной Божией премудрости и
милости на земле.
Постараемся подняться на тихие и
ясные высоты, откуда Церковь созерцает истину в ее божественной гармонии. Здесь
мы утвердимся стопами на незыблемом камне и озаримся светом безоблачного дня:
ибо здесь Царство Господне.
Бог, вечное начало всего сущего,
открыл Себя Своим разумным тварям, прежде всего, как беспредельное могущество и
бесконечная мудрость. В последствии времени, в Сыне Человеческом, Иисусе
праведном, Спасителе нашем, Бог тем же тварям открыл Себя, как единственное
нравственное Существо; и существа, нравственным чувством своим познавшие Его бесконечную
любовь, славят Его и славят в нем Отца щедрот, во веки веков. Но это еще только
откровение историческое. Дух, который от Бога и который есть Бог, не отказал
верным в откровении более полном. Устами Церкви, Он назвал Сына «агнцем,
принесенным в жертву от начала веков», и тайна Божия открылась в бесконечной ее
глубине.
Тайна нравственной свободы во
Христе и единения Спасителя с разумною тварью могла быть достойным образом
открыта только свободе человеческого разума и единству взаимной любви, завершенной
и увенчанной Духом Божиим в великий день Пятидесятницы, когда возжглись
огненные языки на головах учеников, соединившихся в уповании, в молитве и в
поклонении. В самом деле, вера, испытующая тайны Божии, не есть веренье
(сгоуаnсе), а ведение, но ведение, не похожее на познание наше о внешнем мире;
она есть познание внутреннее, подобное тому, какое имеем мы о явлениях нашей
умственной жизни. Она есть дар благодати Божией; она знаменует присутствие Духа
истины в нас самих.
Но единение земного человека с
его Спасителем всегда несовершенно: оно становится совершенным только в той
области, где человек слагает свое личное несовершенство в совершенство взаимной
любви, объединяющей христиан. Здесь человек опирается уже не на свои силы,
точнее не на свою помощь: он доверяет не себе лично, а возлагает все свое
упование на святость любвеобильной связи, соединяющей его с братьями; и такое
упование не может обмануть его, ибо связь эта есть сам Христос, созидающий
величие всех из смирения каждого. Так, в Антиохии, сам передовой вождь святой
дружины учеников впал в заблуждение, грозившее опасностью всей будущности
христианской свободы, и восстал не иначе как смиренным послушанием голосу
новообращенного. Этот пример научает нас понимать отношение каждого из
апостолов к церкви апостолов, следовательно и отношение каждого верующего к
Церкви всех веков; тайна Церкви перед нами разоблачается, и мы дерзаем, не
опасаясь впасть в богохульство, назвать ее телом Самого Христа, Богочеловека,
Спасителя нашего. Это, конечно, не значит, чтобы мы имели безумие считать самих
себя, в ограниченности нашего личного бытия, за воплощение Божества.
Действительно, Церковь не в более или менее значительном числе верующих, даже
не в видимом собрании верующих, но в духовной связи, их объединяющей.
Церковь есть откровение Святого
Духа, даруемое взаимной любви христиан, той любви, которая возводит их к Отцу
через Его воплощенное Слово, Господа нашего Иисуса. Божественное назначение
Церкви состоит не только в том, чтобы спасать души и совершенствовать личные
бытия: оно состоит еще и в том, чтобы блюсти истину сокровенных тайн в чистоте,
неприкосновенности и полноте, через все поколения, как свет, как мерило, как
суд. Сокровенные связи, соединяющие земную Церковь с остальным человечеством,
нам не открыты; поэтому мы не имеем ни права, ни желания предполагать строгое
осуждение всех пребывающих вне видимой Церкви, тем более, что такое
предположение противоречило бы Божественному милосердию.
Тайна Христа, спасающего тварь, —
есть тайна единства и свободы человеческой в воплощенном Слове. Познание этой
тайны вверено было единству верных и их свободе, ибо закон Христов есть
свобода. Спаситель удалил от учеников свое видимое присутствие, и однако
Церковь ликует, Христос зримый — это была бы истина, так сказать, навязанная,
неотразимая (по вещественной осязательности ее проявления), а Богу угодно было,
чтобы Истина усваивалась бы свободно. Христос зримый — это была бы истина
внешняя, а Богу угодно было, чтобы она стала для нас внутренней, по благодати
Сына в ниспослании Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы. Отселе, Истина должна
быть в нас самих, в глубине нашей совести. Никакой видимый признак не ограничит
нашей свободы, не даст нам мерила для нашего самоосуждения против нашей воли.
Мы были бы недостойны разумения
Истины, если бы не имели свободы, были бы неспособны уразумевать ее, если бы не
держались в единстве силою нравственного закона. Что благоволил открыть нам
Бог, что изрек Дух Святой, что изглаголала в прошедшем Церковь Библиею,
Соборными определениями, смыслом переданного обряда, — все это нам дано.
Разумение проявленного, никогда
не прерывающееся проявлениe разумения, — подвиг Церкви современной, все это
вверено свободе нашей мысли, а мысль всей Церкви образуется гармоническим
слиянием мыслей личных, просвещенных Божественною благодатью. Но и личные мысли
не простая рефлексия анализирующего и рационализирующего духа: в ней всецело
проявляется нравственное существо. Она принимает научение не только словом, но
всею полнотою церковной жизни. Она не итог умозаключений, а совокупность
разумных стремлений. Ей служит выражением не только силлогизм выговоренный, или
силлогизм в мысли, но и созерцание, и сердце сокрушенное, и смирение искреннее,
и колена, преклоненные в молитве, и несомненная надежда, что Бог не откажет в
истине своей Церкви, спасенной Им кровию Сына Своего, более всего она есть
взаимная любовь во Иисусе Христе, Едином Подателе силы и мудрости и слова
жизни. Но спрашивают: как же мне избежать заблуждения? — Молись, чтобы не
впасть в искушение. Мы знаем: нет человека безгрешного, нет и человека изъятого
от заблуждений, как бы высоко он ни стоял; но согласие всех есть истина в лоне
Церкви, а Церковь есть тело нашего Господа, по закону любви, который есть
правило Церкви.
Вся история Церкви есть как бы
развитие этого закона. Каждый отдает свой умственный труд всем; каждый
принимает от всех добытое общим трудом. Поэтому, когда заблуждение начинает
выдавать себя за церковную истину, опровержение иной раз может идти от одного
лица; но решение всегда принадлежит всем. Является Apий и выдает свое личное
безумие за выражение соборной веры. Громче других раздается в обличение ему
голос человека, немного значащего в общине, голосе простого диакона:
«Христиане! Войдите в себя, испытайте ваше сердце и ваши совести! Какую веру
получили вы от апостолов? Какую веру носите вы в себе?». Собор собирается и
произносить свидетельство. Церковь судит и признает собор за истинное выражение
мысли каждого из верных: и века славят имя Афанасия, которому Бог даровал слово
истины, дабы он соделался как бы голосом своих братьев. По своей внешней форме
арианство было не чуждо признаков церковности и в этом отношении нельзя было
отличить его от православия; но арианству не доставало того духа, который есть
внутренняя жизнь Церкви. То же явлeние представляют и последующие ереси. Все
они ложны в основании, и ни одна из них не осуждается своею формою. Одно лишь
латинское заблуждение наложило на себя и эту печать осуждения.
Единство внешнее, отвергающее
свободу, и потому не действительное — таков романизм (католицизм). Свобода
внешняя, не дающая единства, и потому также не действительная — такова реформа
(протестантизм). А мы знаем, что тайна единства Христа с Его избранными,
единства осуществленного Его человеческою свободою, открыта в Церкви
действительному единству и действительной свободе верных, познание сил,
которыми совершилось наше спасение, вверено подобным же силам, иначе не могло и
быть. Познаниe единства не могло быть вверено раздору, ни познание свободы
рабству; но Церкви дано то и другое, потому что единство ее есть не иное что,
как согласие личных свобод.
Мысль современной Церкви (а мысль
Церкви значит не иное что, как просвещенный благодатию разум ее членов,
связанных между собою нравственным законом взаимной любви) есть та самая мысль,
которая начертала Писания, та самая, которая впоследствии признала эти Писания
и объявила их священными, та самая, которая еще позднее, формулировала их смысл
на соборах и символизировала его в обряде. Мысль Церкви в настоящую минуту и
мысль ее в минувших веках есть непрерывное откровение, есть вдохновение Духа
Божия.
Чтобы уяснить себе это умственное
движение, нужно понять самую историю Церковного догмата. Все тайны веры были
открыты Церкви Христовой от самого ее основания. Все внутреннее познание
Божественного (в той мере, в какой оно доступно земному человечеству), было
дано ей от начала, и все эти тайны, все это познание выражены были первыми
Христовыми учениками, но были выражены только для Церкви и только ей могут быть
понятны.
Сами по себе, Бог и Божественное
невыразимы: слово человеческое не в состоянии ни определить, ни описать их, оно
может только возбудить в разуме, т. е. в мире человеческом, мысль или порядок
мыслей, соответственных реальности мира Божественного. Мы знаем, что даже в
области человеческих предметов, слова, которыми выражаются не отвлеченности, а
понятия, взятые из живой реальности, вещественной или духовной, бывают понятны
только для людей, обладающих физическими органами или духовными способностями,
необходимыми для их понимания; иными словами: понятны в той мере, в какой
составляют как бы долю жизни самого постигаемого субъекта; оттого, слепому
недоступно действительное понимание слов: «свет и цвет»; оттого человек,
лишенный чувства красоты, не понимает слов, ее выражающих; оттого, душа
огрубевшая в чувственности, или погрязшая в эгоизме, слышит доносящиеся до нее
слова любви, благоговения и почтения, но не проникает в их смысл. Не тем ли с
большим основанием должны мы признать, что слова, которыми выражаются понятия о
мире Божественном, могут быть понятны только для того, чья собственная жизнь находится
в согласии с реальностью этого мира? Если сами эти понятия недоступны
человеческой мысли, пребывающей в уединении своей личной немощи и порочности, а
постигаются только Духом Божиим, который открывает их нравственному единству
христианского общества, то естественно, что и слова, служащие их выражением,
представляются в своем реальном смысле только тому, чья жизнь составляет как бы
живую принадлежность организма Церкви.
Да! Разумная свобода верного не
знает над собою никакого внешнего авторитета; но оправдание этой свободы в
единомыслии ее с Церковью, и мера оправдания определяется согласием всех
верных.
Тайны Божии открыты нам от
начала. — Что же после того значит вся последующая работа, та, которая
продолжается и в наши дни, будет продолжаться во все века, и которую историки
нашего времени называют крайне неточно развитием?
Нет на языке человеческом слов,
которыми Бог и предметы Божественные могли бы быть в самом их существе
определены или описаны. Человеческое слово есть только знак, более или менее
условный, смысл которого изменяется, не только по языкам, наречиям и эпохам, но
и по мере развития науки и умственной жизни людей в вещах человеческих. И
Церковь унаследовала от блаженных апостолов не слова, а наследие внутренней
жизни, наследие мысли невыразимой и однако постоянно стремящейся выразиться.
Слово Церкви изменяется во свидетельство бесконечности идеи: иначе это слово
было бы не более как вещественным отголоском, звучащим из века в век, но ничего
не выражающим, кроме разве бесплодности и вялости умственного труда или даже
полного его отсутствия.
Мы это видим с самого начала.
Если бы таинственное и вечно-покланяемое имя «Сын Божий» обнимало во всей
полноте христианскую идею о Том, Кто воплотился ради нашего спасения, то к чему
бы придавать Ему еще другое, Божественное имя «вечного Слова»? Или если это
последнее имя было необходимо для выражения идеи, то почему бы ему не быть
произнесенным в самом начале Евангельской проповеди? Ученые нашего века толкуют
о развитии; немцы придумали даже для него особый термин: «учения о Слове»
(Logoslehre); но все это пустые слова. Читая Писания апостольские,
предшествовавшие Писанию Иоанна, иногда, невольно, как бы сетуешь, не находя в
нем названия столь выразительного, сияющего в первой строке Иоаннова Евангелия.
«Образ Отца», «cияние славы Его» и другие подобные выражения, правда, открывают
ту же мысль, какая заключена и в имени «Слово», но указывают ее не так ясно. И
так, скажем ли мы, что появлением этого термина знаменуется прогресс в развитии
Церкви? Отнюдь нет: ибо полнота Церковной мысли чувствуется и в выражениях св.
Павла; но дело в том, что явился новый слушатель. Иудей, римлянин, грек —
мастеровой ничего бы не поняли, если бы св. Павел заговорил о Слове. Это
выражение не пробудило бы в их представлении никакой идеи, она бы для них не
имела никакого смысла. Но к Церкви Христовой примкнул новый личный элемент,
новая историческая жизнь — воспитанники греческой философии. Выражение,
сравнительно с первыми, более сжатое и более ясное, но которое до той поры было
бы непонятно, стало теперь возможно; св. Иоанн возглашает его, и ликующая
Церковь повторяет его в день торжественнейшего из своих празднеств.
Значит ли это, что Церковь обрела
наконец термин для выражения своей мысли? Как! Слово, этот улетучивающийся звук
или этот немой знак, начертанный или оттиснутый, это нечто изменяющееся и
условное, это нечто не имеющее ничего своего, не имеющее даже жизни в себе,
жизни так сказать личной, признать его за выражение способное обнять и
определить существо Бога, Спасителя нашего, Того, Кто есть безусловная жизнь и
истина? Этого и предположить нельзя. Нет, не тому радуется Церковь, что будто
бы удалось ей наконец выразить мысль свою, а тому, что указала ясно своим чадам
такую мысль, которой никакой язык человеческий выразить не может.
Все слова наши, если смею так
выразиться, суть не свет Христов, а только тень его на земле. Блаженны те,
которым дано, созерцая эту тень на полях Иудеи, угадывать небесный свет Фавора.
Этот свет постоянно светит для Церкви, но открывается не иначе, как сквозь тень
вещества, ибо язык наш вполне вещественен не только, по своей форме, но и во
всех почти корнях своих, хотя он и невеществен по своему началу.
Если бы апостол обращался к иным
слушателям, если бы он встретил в них другую умственную подготовку, может быть,
он употребил бы иные выражения при встрече с философскими системами, подобными
нынешним германским, вместо «Слова» он употребил бы для выражения той же мысли
другой термин, например: объект, и эта форма, хотя и менее совершенная, была бы
также вполне законна. Я нисколько не думаю сравнивать эти два выражения; я знаю
очень хорошо, что в термине «Слово» гораздо живее выступает понятие рождения,
т. е. отношения мысли к ее проявлению; но знаю также, что термином «объект»
можно бы было передать понятие о мысли проявленной и самосознанной;
следовательно и в этом случае была бы достигнута предположенная Церковью цель —
уяснить Божественный мир наведением, заимствованным из видимого мира, или из
действий человеческого разума. Таким то образом, самый высокий примерь этого
умственного труда, никогда, по милости Божией, не прекращавшегося в Церкви,
подает нам именно тот, кого можно бы назвать по преимуществу апостолом Церкви,
апостолом ad intra, подобно тому, как два другие великие светильника Христианского
мира названы были один апостолом иудеев, а другой апостолом язычников, т. е.
апостолами ad extra. Св. Иоанн был, по истине, апостолом — подтвердителем
откровения, и самое его призвание, объявленное ему с высоты креста, равно как и
слова, сказанные о нем после Воскресения, имели, по-видимому, кроме прямого
своего смысла, еще другой, символический смысл (4).
Господь сказал: «Я восхожу к Отцу
моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Св. Фома, вдохновенный
Духом истины, отвечал Ему: «Господь мой и Бог мой». Все таинство воплощения
ясно открылось с той минуты, и однако, несколько веков протекло, прежде чем
Церковь, устраняя ошибочные формулы, предложенные Несторианством и
Евтихианством, заключила свою веру в строгую и сжатую формулу.
Блаженные апостолы поучают нас,
что Дух, который есть Бог, исходит от Отца и познает Его тайны. Эти слова
заключают полную истину; но полтора века спустя, Ириней, ученик (чрез
Поликарпа) возлюбленного апостола, сказал еще яснее: «Дух венчает Божество,
давая Отцу имя Отца и Сыну имя Сына». Устами Иринея Церковь обнаруживает
глубину познания тайн Божиих, дарованного ей Христом.
То же движение замечается в
выражении всех догматов. Выражения: вечное рождение, вечное исхождение, Троица,
Лица и пр. являются и входят в общее употребление мало-помалу; но все это
движение не выходит из круга терминологии и никак не может быть принимаемо за
развитие учения: напротив, учение остается неизменным навсегда. Вообще,
поводами к выражению истины в формулах более строгих и более определенных,
служили для сынов Церкви ереси или ложные определения; но, конечно, это, так
сказать, научное движение церковной терминологии, в сущности, нисколько не
требует для своего обнаружения непременной встречи с заблуждениями; оно весьма
естественно истекает из потребности заявить, что христианское учение не набор
слов, вытверженных наизусть и удерживаемых памятью, а приблизительное выражение
истины Божией, постоянно созерцаемой и уразумеваемой внутренним смыслом сынов
Церкви.
Истина пребывает неизменною во
все века; познание ее не изменяется; но выражение ее, по самому существу всегда
недостаточное, не может не видоизменяться, сообразно с развитием аналитического
слововыражения и с характером умственных приемов каждой эпохи.
Отдельные лица свободно вносят в
общий труд дань своих, более или менее удачных усилий; Церковь принимает или
отвергает эту дань, не осуждая отдельных лиц, хотя бы они и заблуждались, если
только труды их действительно добросовестны, и если они приносят добытое ими
смиренно, без диктаторских приемов, и не насилуя совести братьев.
Кто принимает аналитическое
движение в Церковной терминологии за развитие Церкви — тем самым всецело
погрузился в рационализм. Труд аналитический неизбежен; — мало того, он благ,
он свят, ибо свидетельствует, что вера христиан не пустой отголосок древних
формул; но он только указывает на сокровище глубокой и невыразимой мысли, вечно
хранимое Церковью в своих недрах. Мысль эта не умещается в одной познавательной
способности: она почиет в полноте разумного и нравственного бытия. Человек
размышляет и ищет выразить свое размышление в слове; Церковь судит о слове: она
одобряет его когда оно истинно, осуждает, когда ошибочно и могло бы навести
верных на ложные пути, или когда, по внушению гордости, оно выдает себя за
полное выражение истин, которые оно может только наметить. Таким то образом,
каждый человек, слепец и протестант по своему нравственному несовершенству,
стоит всегда перед лицом Церкви, которая прозорлива и кафолична (соборна),
потому что свята дарованием Святого Духа и благодатию взаимной любви в Иисусе
Христе. Следовательно, свобода личного разума не порабощена; но дело разума
подлежит решающему пересмотру Церкви, а решение Церкви истекает не из
логической аргументации, а из внутреннего смысла, исходящего от Бога, смысла
(как свидетельствует история) даруемого безразлично невеждам и ученым, пастухам
и пастырям душ.
Вся история Церкви есть история
просвещенной благодатию человеческой свободы, свидетельствующей о Божественной
истине, но в этом подвиге свободы должно различать две формулы одной и той же
силы. В Церкви, в ее целости, является полнота свободы в Иисусе Христе;
является свобода, сознающая себя всегда непогрешимою, в настоящем как и в
прошедшем, и уверенная всегда в себе самой и в дарах Духа Божия. В отдельном
лице является смирение свободы христианина, который, будучи силен убеждением,
что для Церкви заблуждение невозможно, приносит свою дань в общее дело,
почитает себя всегда ниже своих братьев, покоряет им свое собственное мнение и
просит у Бога только сподобить его послужить органом веры всех. Такова та
свобода, которой благословение Божие не покидает никогда.
Единство истинное, внутреннее,
плод и проявление свободы, единство, которому основанием служит не научный
paционализм и не произвольная условность учреждения, а нравственный закон
взаимной любви и молитвы, единство, в котором, при всем различии в степени
иерархических полномочий на совершение таинств, никто не порабощается, но все
равно призываются быть участниками и сотрудниками в общем деле, словом:
единство по благодати Божией, а не по человеческому установлению, таково
единство Церкви.
Свобода и единство — таковы две
силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе, спасающем
и оправдывающем тварь через свое полное единение с нею. Плод этих сил, по
благодати Господней, не верение (croyance) и не познание, добытое анализом, а
внутреннее совершенство и созерцание Божественного, иначе — Вера, которая, по
существу, своему, равно как и по своему исходному началу, неприступна для
безверия.
Протестантское сомнение, ищущее
веры и не находящее ее, римская условность, поставляющая человека, так сказать,
вне верования, которому он подчиняется, не могут ни соблюсти веру, которой у
них нет, ни устоять против полного безверия, ими овладевающего. Скажу более:
сами они суть не иное что, как безверие в принципе и в зародыше.
Запад отринул основное учение о
любви, на котором зиждется вся жизнь Церкви. Этим заблуждением самый принцип
христианства предается суду, как некогда предан был суду Богочеловек,
поставивший этот принцип. И теперь, как тогда, иудейский первосвященник,
старается поработить его внешнему закону; и теперь, скептик, питомец Греции,
вопрошает его: что есть истина? — не будучи в состоянии понять его ответа, и
наконец, оба: первосвященник и скептик, отдают его беззащитного в руки
безверия, готовящего крест и казнь.
Напротив того, на востоке,
Церковь, оставшаяся верною всему учению апостолов, внутренним общением,
объединяющая верующих настоящего времени и избранных минувших веков,
распространяющая благостыню своих молитв на грядущие поколения, которые в свою
очередь, будут молиться за своих предшественников, — Церковь зовет в свои
объятия все народы и, в полноте несомненного упования, ожидает пришествия
своего Спасителя. Спокойным оком зрит она, как век за веком, волна за волною,
гроза исторических треволнений, потоки страстей и мыслей человеческих клубятся
и мечутся вокруг камня, на котором она утверждается; зрит и не смущается, ибо
верит в его несокрушимость. Камень этот — Христос.
Русский Богослов Алексей Хомяков
(Алексей Степанович Хомяков;
Полн. собр. сочин. т. II. Из статей: «Несколько слов православного христианина
о западных вероисповеданиях», 1853
г. и 1855
г. и «Еще несколько слов православного христианина о
западных вероисповеданиях, по поводу разных сочинений латинских и
протестантских о предметах веры», 1858 г. Стран. 54, 57—59; 111, 114, 115,
222—228; 238—239; 240—250; 251—253; 254, 255).
Примечания:
(1) Когда это слово, или слово
православный прилагается к отдельному лицу, это не более, как эллиптическая
форма выражения.
(2) Вот в чем обнаруживается
безумие ирвингистов: они ожидают апостолов, не понимая того, что апостольская
Церковь гораздо выше каждого из апостолов. Частные дары суть только отражение
дара всеобщего. Впрочем, нельзя не понять, что ирвингизм есть нечто иное, как
сомнение, жаждущее чудес.
(3) Единство, как понимают его
латиняне, есть церковь без христианина; свобода, как понимают ее протестанты,
есть христианин без Церкви.
(4) Кстати, может быть, напомнить
здесь, что при другом случае Петр бросается вплавь, чтобы скорее соединиться с
своим воскресшим Учителем, но узнает Его Иоанн и говорит: «это Господь».
Ясность познания, по-видимому, была дарованием нарочито ему данным.
